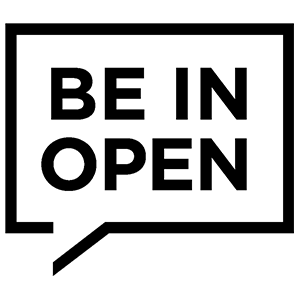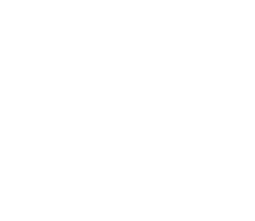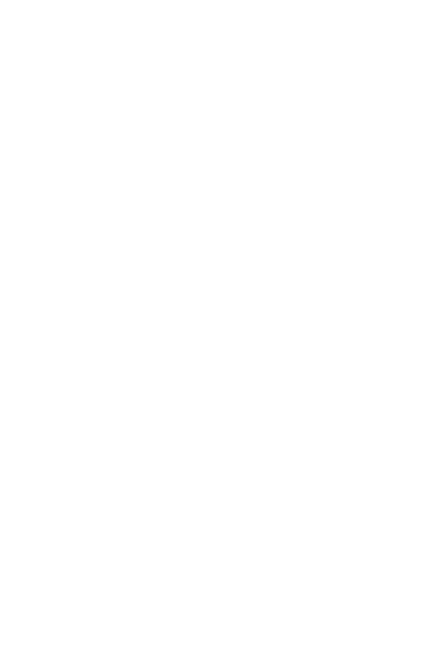ОБ АУТЕНТИЧНОСТИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА VESTOJ АНИ АРОНОВСКИ-КРОНБЕРГ
ТЕКСТЫ О МОДЕ
Настали времена пост-правды, «альтернативных фактов» и правдоподобия: иногда кажется, что мы уже овладеваем новоязом. Но даже при том, что мы привыкли к более гибкому взгляду на реальность, сакральными идеалами самости остаются идейность, искренность, правдивость и аутентичность. «Будь честен с собой». «Оставайся верным себе». «Будь собой». На этих трюизмах и тавтологиях зиждется целая индустрия кофейных чашек, книг по саморазвитию и футболок, и они являются стандартными фигурами речи в выступлениях на Ted Talks. Хоть нас может и передергивать, когда мы слышим их, многие из нас смирились с тем, что эти избитые фразы несут в себе здравый смысл.
Но существует ли такая сущность, как настоящее «я» или подлинное «я»? Что значит жить аутентичной жизнью? И возможно ли делать это в моде, среде, которая просто создана для сиюминутного настроения, и до такой степени кажется зависящей от масок, которые используются, когда это удобно, и отбрасываются, когда больше не приносят пользы? Некоторые могут сказать, что мода и аутентичность являются прямо противоположными друг другу: первое – определение духа настоящего, второе - ценность тех, кто стремится преодолеть его. Так по крайней мере сформулировал бы мысль экзистенциалист, покуривающий в парижском кафе «Дё маго» в 1946 году. Только путём преодоления общепринятых норм, навязанных нам социальными институтами - семьей, системой образования, религией, государством, - человек может начать жить по-настоящему аутентичной жизнью.
Но существует ли такая сущность, как настоящее «я» или подлинное «я»? Что значит жить аутентичной жизнью? И возможно ли делать это в моде, среде, которая просто создана для сиюминутного настроения, и до такой степени кажется зависящей от масок, которые используются, когда это удобно, и отбрасываются, когда больше не приносят пользы? Некоторые могут сказать, что мода и аутентичность являются прямо противоположными друг другу: первое – определение духа настоящего, второе - ценность тех, кто стремится преодолеть его. Так по крайней мере сформулировал бы мысль экзистенциалист, покуривающий в парижском кафе «Дё маго» в 1946 году. Только путём преодоления общепринятых норм, навязанных нам социальными институтами - семьей, системой образования, религией, государством, - человек может начать жить по-настоящему аутентичной жизнью.
НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, ЧТО МОДА И АУТЕНТИЧНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ДРУГ ДРУГУ: ПЕРВОЕ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУХА НАСТОЯЩЕГО, ВТОРОЕ - ЦЕННОСТЬ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГО.
Сегодня философы предпочитают думать об аутентичности как о чем-то конструируемом и разыгрываемом: мы – это мы сами как надстройка нас самих над надстройкой над самими нами. В 1981 году Жан Бодрийяр пишет о симулякрах и симуляции, имея в виду, что теперь у нас есть описывающие вещи копии без существования их оригинала. Реальности больше нет, только знаки и символы. Наш опыт реальности - это только симуляция. И она скрывает не аутентичность, а то, что никакая аутентичность не нужна нам для понимания мира, в котором мы живём.
Любопытно, что в то время, как философы обсуждают коллапс аутентичности в мире постмодерна, в потребительском капитализме та приобрела первостепенную важность: в моде она сам Святой Грааль. Термины вроде «традиционного промысла», «культурного наследия», «ремесленного мастерства» и «преемственности» стали модными в обиходе, и компаниям-конгломератам нравится называть свои офисы «кампусом», а сотрудников «семьёй». Чем дальше мы в своём мироощущении от этих ценностей, тем, кажется, всё большую важность они приобретают. Мы говорим о «настоящей одежде» в противоположность «моде» и о «настоящих людях» в противоположность моделям.
Мы больше не живём в сообществах, где все тесно связаны, как не вспахиваем собственноручно поля или не шьём себе одежду. То, что мы обрели в части более подвижной социальной структуры и свободы выбора, мы, кажется, потеряли в аутентичности. Мы ностальгируем, лелея мысль о более простом и неподдельном времени. Мы замечаем это в нашей склонности к винтажной одежде и во всём, сделанном вручную, а также в упорстве, с которым дизайнеры погружаются в прошлое в поисках вдохновения. Аура аутентичности патинирует это представление о воображаемом прошлом, но то, что мы получаем, – это не сама аутентичность, а всего лишь искусственный и опосредованный спектакль.
Любопытно, что в то время, как философы обсуждают коллапс аутентичности в мире постмодерна, в потребительском капитализме та приобрела первостепенную важность: в моде она сам Святой Грааль. Термины вроде «традиционного промысла», «культурного наследия», «ремесленного мастерства» и «преемственности» стали модными в обиходе, и компаниям-конгломератам нравится называть свои офисы «кампусом», а сотрудников «семьёй». Чем дальше мы в своём мироощущении от этих ценностей, тем, кажется, всё большую важность они приобретают. Мы говорим о «настоящей одежде» в противоположность «моде» и о «настоящих людях» в противоположность моделям.
Мы больше не живём в сообществах, где все тесно связаны, как не вспахиваем собственноручно поля или не шьём себе одежду. То, что мы обрели в части более подвижной социальной структуры и свободы выбора, мы, кажется, потеряли в аутентичности. Мы ностальгируем, лелея мысль о более простом и неподдельном времени. Мы замечаем это в нашей склонности к винтажной одежде и во всём, сделанном вручную, а также в упорстве, с которым дизайнеры погружаются в прошлое в поисках вдохновения. Аура аутентичности патинирует это представление о воображаемом прошлом, но то, что мы получаем, – это не сама аутентичность, а всего лишь искусственный и опосредованный спектакль.
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО «НАСТОЯЩЕСТЬ», ТРАНСЛИРУЕМАЯ ЧЕРЕЗ ХЕШТЕГИ И ПОЗЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСТИННОЙ ИЛИ ПОДЛИННОЙ


В 1960-х философ марксистского толка Ги Дебор заклеймил этот феномен «обществом спектакля», а мода является его частью, наиболее уязвимой для такого рода критики. Часто пренебрежительно именуемая театром обычаев и нравов, она, как правило, выбирается, когда нам требуются примеры того, каким образом средства массовой информации превратили всё, включая реальность, в спектакль. Следуя этой логике, тоска, которой в наши ирреальные времена мы изнываем по былой аутентичности, ведёт нас к принятию того, чтобы платить ещё большую цену за что-то оригинальное, подлинное, настоящее - за нечто аутентичное. Мы покупаем, чтобы помочь определиться себе, кто мы - кто из нас не поддавался соблазну на восклицания вроде «О, это настолько твоё!», примеряя особенно льстящий предмет одежды? Но «настоящесть» остаётся неуловимой, а аутентичность - химерой, и товары, которые мы потребляем, никогда не приносят полного удовлетворения. И поэтому мы продолжаем покупать, надеясь, что следующее платье или курточка наконец-то докажут нашу уникальность и аутентичность миру.
В модной индустрии из-за роста влияния конгломератов и повсеместности брендинга и маркетинга, которые они принесли с собой, аутентичность часто стала рассматриваться как сфабрикованная и поэтому не заслуживающая доверия. Аналогичным образом платформы социальных сетей сегодня очень популярны в модной индустрии и за её пределами. Идентичность, как правило, понимается здесь как подлежащая конструированию и разыгрыванию. Мы знаем, что «настоящесть», транслируемая через хештеги и позы, не может быть истинной или подлинной. Мы видим её насквозь, а потом уступаем ей, несмотря на это.
Нам хочется верить. Любопытно то, как мы можем смотреть на картинку в Instagram - на «инфлюэнсера» с искусно растрепанными волосами, которая пребывает в Дви Пада Випарита Дандасане, одетая в стиле athleisure и потягивающая на закате органический зеленого цвета сок - и знать, что это изображение является в высшей степени сконструированным результатом, за которым стоит сотня забракованных снимков (мы это знаем, потому что делаем так и сами), при этом оставаясь с щемящим чувством, что её жизнь лучше, реальнее, чем наша. Именно этот саспенс, отделяющий от неверия, держит нас в строю послушных потребителей, всегда стремящихся к чему-то иному, чем то, что у нас есть. И вот так в день, когда мы тоже - вызывая бурю чувств неполноценности в других - фотографируемся пьющими выжатый вручную фруктовый сок где-нибудь в экзотической местности, мы позволяем нам самим забыть о том усилии, которое мы постоянно прикладываем, чтобы «быть самими собой», и впадаем в правдоподобие поэтизированного верования - утешительной награды за «аутентичный опыт». И мы движемся всё дальше и дальше, «курируя» собственные жизни.
Что же тогда представляет аутентичность в нашу эпоху симулякра, когда всё производно от чего-то ещё? Мы, что называется, не оставляем попыток и дальше, стремясь быть оригинальными, хоть и знаем, что в конце концов будем выглядеть и действовать всё так же. Отстаивание аутентичности как части общественной жизни в действительности является чем-то относительно новым. Представление о мире как о сцене, или «theatrum mundi», нашло выражение ещё среди древних греков, которые смотрели на мир как на сумму, превышающую её слагаемые по отдельности, где люди – персонажи, а их действия – драма. А согласно социологу Ричарду Сеннету, общественная жизнь в Париже и Лондоне начала 18 века также основывалась на доктринах и принципах театра. Жить в обществе означало жонглировать множеством масок, уделяя мало или не уделяя вообще внимания личным качествам индивида.
Мы все – актеры, зрители, наблюдатели и участники. Возможно, идея «инсценированной аутентичности» или общественной жизни как театра в меньшей степени касается взгляда на социальные взаимодействия как на бесконечный карнавал взаимозаменяемых масок, и скорее имеет отношение к использованию различных, равноценно значимых персонажей. Это то, что утверждал социолог Эрвинг Гофман: у общественной жизни есть сцена и кулуары, и мы играем свои роли и там, и там. На сцене с чувством неловкости мы осознаём уловки, к которым прибегаем. Находясь за сценой же, мы делаем вид, что там всё иначе. Но, и это неизбежно, мы никогда не прекращаем играть роль. Другими словами, образ «я», будь то в живом общении или онлайн, всегда является переговорами или диалогом между самоидентичностью и окружающей действительностью. Мы потребляем, ходим по магазинам и одеваемся, чтобы сконструировать или разыгрывать идентичность. Может быть, вместо чёткой линии между «фальшью» и «настоящим», множество идентичностей, в которые мы вживаемся каждый день, больше сродни бесконечной генеральной репетиции с примеркой костюмов, где никакие из ролей или персонажей не являются более настоящими или аутентичными, чем следующие за ними. Мы – партнеры в отношениях, друзья, руководители, коллеги, профессионалы, родители и дети, и каждая роль требует некоторых поправок в своём костюме. Для большинства из нас эти роли все реальны, и все исполняются нами. Мы приспосабливаемся, мы бунтуем, снова приспосабливаемся.
Мы поощряем тинейджеров, которые экспериментируют с образами - сегодня гот, завтра - гламурная тусовщица. Но мы склонны смотреть с подозрением на тех, кто продолжает свои стилевые эксперименты во взрослом возрасте. При том, что мы, кажется, усвоили, что быть тинейджером - значит существовать в постоянном состоянии кризиса идентичности, и что все в школе в той или иной степени драматизируют, разыгрывая спектакль. По мере взросления от нас ожидается, что мы остановимся на одном социальном персонаже, и это отразится в последовательном отношении к внешнему виду. Но что, если нам отказаться от мысли, что аутентичность означает быть последовательным, и маски используются для того, чтобы скрывать внутреннее «я», а вместо этого посмотреть на каждую ипостась как на столь же действительную, что и следующая за ней?
За маской ничего нет, маска - это единственное, что существует.
В модной индустрии из-за роста влияния конгломератов и повсеместности брендинга и маркетинга, которые они принесли с собой, аутентичность часто стала рассматриваться как сфабрикованная и поэтому не заслуживающая доверия. Аналогичным образом платформы социальных сетей сегодня очень популярны в модной индустрии и за её пределами. Идентичность, как правило, понимается здесь как подлежащая конструированию и разыгрыванию. Мы знаем, что «настоящесть», транслируемая через хештеги и позы, не может быть истинной или подлинной. Мы видим её насквозь, а потом уступаем ей, несмотря на это.
Нам хочется верить. Любопытно то, как мы можем смотреть на картинку в Instagram - на «инфлюэнсера» с искусно растрепанными волосами, которая пребывает в Дви Пада Випарита Дандасане, одетая в стиле athleisure и потягивающая на закате органический зеленого цвета сок - и знать, что это изображение является в высшей степени сконструированным результатом, за которым стоит сотня забракованных снимков (мы это знаем, потому что делаем так и сами), при этом оставаясь с щемящим чувством, что её жизнь лучше, реальнее, чем наша. Именно этот саспенс, отделяющий от неверия, держит нас в строю послушных потребителей, всегда стремящихся к чему-то иному, чем то, что у нас есть. И вот так в день, когда мы тоже - вызывая бурю чувств неполноценности в других - фотографируемся пьющими выжатый вручную фруктовый сок где-нибудь в экзотической местности, мы позволяем нам самим забыть о том усилии, которое мы постоянно прикладываем, чтобы «быть самими собой», и впадаем в правдоподобие поэтизированного верования - утешительной награды за «аутентичный опыт». И мы движемся всё дальше и дальше, «курируя» собственные жизни.
Что же тогда представляет аутентичность в нашу эпоху симулякра, когда всё производно от чего-то ещё? Мы, что называется, не оставляем попыток и дальше, стремясь быть оригинальными, хоть и знаем, что в конце концов будем выглядеть и действовать всё так же. Отстаивание аутентичности как части общественной жизни в действительности является чем-то относительно новым. Представление о мире как о сцене, или «theatrum mundi», нашло выражение ещё среди древних греков, которые смотрели на мир как на сумму, превышающую её слагаемые по отдельности, где люди – персонажи, а их действия – драма. А согласно социологу Ричарду Сеннету, общественная жизнь в Париже и Лондоне начала 18 века также основывалась на доктринах и принципах театра. Жить в обществе означало жонглировать множеством масок, уделяя мало или не уделяя вообще внимания личным качествам индивида.
Мы все – актеры, зрители, наблюдатели и участники. Возможно, идея «инсценированной аутентичности» или общественной жизни как театра в меньшей степени касается взгляда на социальные взаимодействия как на бесконечный карнавал взаимозаменяемых масок, и скорее имеет отношение к использованию различных, равноценно значимых персонажей. Это то, что утверждал социолог Эрвинг Гофман: у общественной жизни есть сцена и кулуары, и мы играем свои роли и там, и там. На сцене с чувством неловкости мы осознаём уловки, к которым прибегаем. Находясь за сценой же, мы делаем вид, что там всё иначе. Но, и это неизбежно, мы никогда не прекращаем играть роль. Другими словами, образ «я», будь то в живом общении или онлайн, всегда является переговорами или диалогом между самоидентичностью и окружающей действительностью. Мы потребляем, ходим по магазинам и одеваемся, чтобы сконструировать или разыгрывать идентичность. Может быть, вместо чёткой линии между «фальшью» и «настоящим», множество идентичностей, в которые мы вживаемся каждый день, больше сродни бесконечной генеральной репетиции с примеркой костюмов, где никакие из ролей или персонажей не являются более настоящими или аутентичными, чем следующие за ними. Мы – партнеры в отношениях, друзья, руководители, коллеги, профессионалы, родители и дети, и каждая роль требует некоторых поправок в своём костюме. Для большинства из нас эти роли все реальны, и все исполняются нами. Мы приспосабливаемся, мы бунтуем, снова приспосабливаемся.
Мы поощряем тинейджеров, которые экспериментируют с образами - сегодня гот, завтра - гламурная тусовщица. Но мы склонны смотреть с подозрением на тех, кто продолжает свои стилевые эксперименты во взрослом возрасте. При том, что мы, кажется, усвоили, что быть тинейджером - значит существовать в постоянном состоянии кризиса идентичности, и что все в школе в той или иной степени драматизируют, разыгрывая спектакль. По мере взросления от нас ожидается, что мы остановимся на одном социальном персонаже, и это отразится в последовательном отношении к внешнему виду. Но что, если нам отказаться от мысли, что аутентичность означает быть последовательным, и маски используются для того, чтобы скрывать внутреннее «я», а вместо этого посмотреть на каждую ипостась как на столь же действительную, что и следующая за ней?
За маской ничего нет, маска - это единственное, что существует.
ТЕКСТ: АНЯ АРОНОВСКИ-КРОНБЕРГ
ПЕРЕВОД СВЕТЛАНЫ СТЕКЛОВОЙ
ВПЕРВЫЕ ТЕКСТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА VESTOJ.
ПЕРЕВОД СВЕТЛАНЫ СТЕКЛОВОЙ
ВПЕРВЫЕ ТЕКСТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В ВОСЬМОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА VESTOJ.
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ BE IN OPEN
В УНИВЕРМАГЕ «ЦВЕТНОЙ»
В УНИВЕРМАГЕ «ЦВЕТНОЙ»
<< Предыдущий материал
О ПОТЕНЦИАЛЕ ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Следующий материал >>
О СОВРЕМЕННОМ ВИЗУАЛЕ
«ТЕКСТЫ О МОДЕ» ПОМОГАЮТ СФОРМИРОВАТЬ ЯЗЫК НАШЕГО ВРЕМЕНИ, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО РАЗМЫШЛЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Подпишитесь на рассылку BE IN OPEN
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности